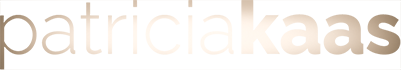Вы все уже взрослые…
Это несправедливо.Во-первых, мама еще молодая. Ей даже шестидесяти нет, пятьдесят пять, если быть точной. Во-вторых, мама свободна. Она, наконец, может пользоваться жизнью после того, как позволила жизни пользоваться собой. Мама нам так и сказала: «Вы все уже взрослые… Теперь, когда я вас вырастила, я хочу проводить время по своему вкусу, например путешествовать». Это был правильный проект, это было хорошо, это было справедливо.
Но нет.
Никакой справедливости.
Я слышу, как она оглушает нас новостью, и вдруг мгновенно я вижу болезнь. Черты маминого лица заострились, она побледнела, а под глазами появились темные круги, которых я никогда у нее не видела, даже когда она уставала, поднимая нас. Я смотрю на нее и вспоминаю, что последнее время она стала жаловаться. Особенно на боли в животе. Я слышала, как она говорила: «Смотри-ка, вот здесь у меня болит и здесь…» И потом, она не ходила к врачу. В наших местах врач — это приятель, с которым встречаются в бистро, вместе выпивают на деревенском празднике. Для нас он не врач, мы изо всех сил стараемся относиться к нему только как к мужчине. Врачи существуют для того, чтобы придумывать болезни. Именно так поколение моих родителей, наш социальный круг относятся к медицинским кабинетам, воспринимая их как гиблое место.
Так как боли не прекращались, мама все-таки пошла к врачу. Поздновато, сказали бы медики. И результаты анализов показали неизбежное. Рак. Поражены лимфатические узлы и многое другое, если нужны подробности. Одним словом, полное дерьмо.
Я бы хотела, чтобы мама стерла все, только что сказанное в баре моего брата. У меня нет выбора. Но спустя секунду я снова обретаю надежду. Папа выжил в шахте, мама не может умереть от какой-то там болячки. Я говорю себе, что медицина шагнула далеко вперед, что у мамы невероятная сопротивляемость, что забрезжил луч моего успеха, что мы окружим ее нашей любовью, и она избежит предначертанного. Нет ничего необратимого, кроме смерти, а пока она не пришла… Лично я верю в чудеса, потому что я верю в жизнь. Все это я говорю себе в эту секунду и повторю еще тысячу раз, когда у меня будут на это силы.
Нам требуется несколько дней, чтобы прийти в себя, начать делать вид, что это не так, думать о чем-то другом или только притворяться, короче, мы начинаем играть по правилам. Жизнь продолжается. Мама здесь, больная и очень уставшая, но она здесь.
Я разговариваю с Дидье Барбеливьеном и говорю ему: «Мне нужна песня, быстро». Я не рассказываю ему всех подробностей, но сообщаю основное: моя мать скоро умрет.
Именно сейчас ему нечего мне дать, но он меня услышал и старается успокоить. Он мне перезванивает. У него есть песня, которую ему не удалось пристроить, от нее все отказывались. Она называется «Мадемуазель поет блюз».
Я ее записываю и скрещиваю пальцы на удачу. Я не только жду успеха, я его требую, я его повелительно зову. Все должно получиться.
Название песни Барбеливьена и Боба Мехди хорошее. И один волшебник завладевает ею и преображает так, что она льется с моих губ. Это Бернар Эстарди, аранжировщик и продюсер. У этого господина в профессии множество прозвищ, его зовут Бароном, потому что он аристократ в музыке, сеньор, или Гигантом из-за его внушительного роста. Все, к чему прикасается, он превращает в золото. Он обходителен. Эстарди видит меня, слышит, берет «Мадемуазель поет блюз» и исправляет ее, меняет, адаптирует для меня. Хороший ритм, хорошая тональность. Смесь варьете и блюза, он находит плоть песни. Благодаря Гиганту песня становится моей. Но история не так проста.
Для начала сам Гигант, хотя и преобразивший мою песню, нагоняет на меня страх. Затем, когда в апреле 1987 года песня выходит в свет, она не «идет». На радио ее сочли недостаточно коммерческой. Они отказываются ставить ее, но все же соглашаются под давлением. Особенно после того, как «Мадемуазель» оценили слушатели, составители программ покоряются и начинают часто ставить ее в ротации… И этот сингл «зацепился», пошел гулять по всем волнам. Его всюду крутят, он у всех на слуху. «Мадемуазель поет блюз» — это успех, которого я ждала. Моя студия звукозаписи «Полидор» (Polydor) сообщает мне цифры продаж сингла, и я не могу прийти в себя. Продано 400 000 экземпляров! Приглашения посыпались, как из мешка. Нет ни одного средства массовой информации, которое не хотело бы меня пригласить. Теперь все знают, откуда я родом, что я дочь шахтера, из франко-немецкой семьи, что пою я уже больше десяти лет по обе стороны границы. Я понимаю, что для них это хорошая история, которую можно рассказывать, что она трогает людей. Они открывают двери для моей судьбы и для моего таланта.
Я перебегаю из студии на радио, на съемочные площадки телевидения. Мне едва хватает времени, чтобы переодеться, чтобы мне сообщили, в чем я участвую. Я вовлечена в вечный изнурительный круговорот. Я позволяю себя увлечь, я не думаю, я не вижу деталей этого вихря.
Хотя и несколько ослепленная тем, что со мной происходит, его я вижу. Я уверена, что с этим мужчиной я уже сталкивалась в коридорах радио. Он высокого роста, темноволосый, элегантный. Он кажется сдержанным. У него очаровательная улыбка, мне нравится его манера на меня смотреть, когда в его глазах зажигаются искорки. Нас знакомят. Его зовут Сирил Приер, он менеджер групп, значащихся на афишах как «Ниагара» или «Рафт» под общим названием «Просто танцуем».
Те несколько парижан, в гостях у которых я побывала, будили во мне скорее мои комплексы, чем чувства. Но на этот раз все иначе. Начинается наша история любви, и по-настоящему она никогда не кончится. Сирил быстро занимает место в моем сердце и в моей семье. Он очень хорошо ладит с мамой. Она приняла его с распростертыми объятиями, и с тех пор они переговариваются глазами, доверяют друг другу. Сирил успокаивает ее и поддерживает меня, потому что моя боль становится все сильнее.
На экране телевизора этого не видно, но это слышится в моем голосе, который стал более зрелым и еще более низким. Я такая несчастная, какой не была никогда в жизни. Каждый проходящий день все сильнее разрывает мне душу. Мама больна. Очень больна. Она сопротивляется, она борется, она живет, чтобы увидеть еще чуть-чуть, она хочет быть сильнее, чем машина смерти, перемалывающая ее, чтобы пожить еще немного… У моего голоса есть цель. Мадемуазель не эксплуатирует успех, который перестал быть самоцелью, это лишь средство, чтобы доставить удовольствие маме.
С тех пор, как я узнала о маминой болезни, я веду двойную жизнь. За занавесом моей маленькой славы скрывается тень, которая все портит, которая ставит успех на место, омрачает его положительное действие. Новость меня изменила. Бесповоротно. Меня мучают образы и больше не отпускают.
* * *
Сегодня 5 декабря 1987 года, 19 часов. Это день моего рождения. В зеркале я вижу себя и улыбаюсь. Мне двадцать один год, и я в зале «Олимпия». Через тридцать минут я выйду на сцену. Я спокойна, я готова, мне даже не терпится. Это не сон. Я узнаю себя, это я, несмотря на другой цвет волос. Теперь у меня довольно темные волосы с несколькими белокурыми прядками. И мои глаза, как и моя шея, открыты. Я чувствую себя почти обнаженной, почти новой. В коридоре только что я встретилась со звездой, перед которой я выступаю «на разогреве» в первом отделении, Жюли Пьетри. Гонка за славой восьмидесятых все еще идет, и в этот вечер она выигрывает. Она на пике своей карьеры с песней, вошедшей в 50 лучших, «Встань, Ева». Прозрачные глаза, белоснежная улыбка и немного ломаный голос. Победа за ней.
Две тысячи зрителей не позволяют увидеть знаменитую красную обивку кресел этого храма музыки, где все эти «бессмертные» выступают хотя бы один раз. Они пришли ради нее. Меня они не ждут, но я хочу, чтобы они меня услышали. Их много передо мной, но я вижу только одно лицо. Мама в первом ряду, ее лицо освещают огни рампы. Оно исхудало, а от сияющей улыбки его черты заостряются еще сильнее. Мама кажется восторженной, ее как будто перенесли в страну фей, где она — по доверенности — стала героиней. Она широко раскрывает глаза, которые эта проклятая болезнь уже изменила. Мне нравится дарить ей это, давать волшебные передышки, когда она забывает о своей болезни.
Она улыбается, как я улыбалась совсем недавно зеркалу, запечатлевшему столько образов артистов. Мама затаила дыхание, я начинаю.
Я пою «Мадемуазель поет блюз», и передо мной оживляется спокойно сидящая публика. Это приятно, словно ласка, я их разогреваю. Им как будто это нравится, и они даже хотят еще. Я увлекла их за собой, а теперь сама следую за ними в их энтузиазме, в их одобрении. В таких условиях я не могу уйти со сцены, как должна была бы сделать, потому что мое время истекло. Я выполняю желание зрителей и снова начинаю петь «Мадемуазель», вызывая эйфорию этого зала, бьющегося в истерике. Я стою на краю сцены, а за моей спиной занавес тоже приходит в движение. Менеджер Жюли — и ее жених одновременно — проявляет нетерпение. Он хочет, чтобы я ушла, и чтобы заставить меня понять, он просовывает руку между двумя полотнищами занавеса и как сумасшедший дергает меня сзади за пиджак. Я сопротивляюсь, заканчиваю то, что начала. Под аплодисменты я с сожалением покидаю сцену. Благословенный миг. Мама прожила его вместе со мной. Когда она приходит ко мне за кулисы, она бледна, потрясена зрелищем того, как ее маленькая дочка становится знаменитой.
Когда я закрываю глаза, я вижу отблеск страха в ее глазах. Как резкий звук, как фальшивая нота, болезнь моей матери вездесуща. Она портит мне все, меняет вкус вещей. Я не наслаждаюсь ими так, как прежде. Теперь я осознаю, что все это пустое, все проходит. И не возвращается.
Она права, мама, мы все повзрослели с тех пор, как она больна. Еще вчера я была маленькой девочкой девятнадцати лет. А сегодня мне сто. У меня ломота во всем теле с тех пор, я знаю, что скоро не смогу укрыться в ее объятиях. Я больше ничего не слышу, ничего не вижу, передвигаюсь с трудом. Я постарела. И когда я пою, горы тоски проступают в моем голосе, цепляются за него.