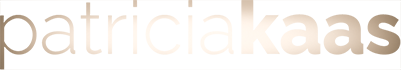Время проходит
Я в Берлине. А когда ты родом из приграничья, то чужим себя в Германии совершенно не чувствуешь. Мне нравится этот мрачный и креативный насыщенный город, отражающий Историю. Когда я тудаприезжаю, я стараюсь остаться на несколько дней, погулять, посмотреть, увидеть обломки Стены. Мне бы хотелось еще посмотреть интеллектуальные фильмы, послушать сумасшедшие концерты, но мое расписание этого не позволяет. Странно, немецкая культура выражается именно здесь, и здесь же заметно то, что в ней наименее немецкое, немного похоже на Нью-Йорк. Парадокс города, который представляет страну и одновременно противоречит ей. Немцы, я заметила, выражают для меня другое противоречие: они надежные и ускользающие в одно и то же время. Упорядоченные и сумасшедшие, строгие, но страстные.
В этом городе, который мне знаком, я много хожу пешком. В этом городе, чьим символом является медведь, страстный коллекционер плюшевых игрушек в моем лице случайно натыкается на… плюшевого мишку. Я вижу его в витрине, он бежевого цвета. Я переживаю своего рода любовь с первого взгляда, которая может показаться глупейшей, необъяснимой. Меня интересует не столько сам предмет, сколько то, что я намерена с ним сделать. Этот медведь не для ребенка, он для моей мамы. Я хотела бы купить для нее что-то успокаивающее, что-то подсказывающее ей, что я рядом с ней в этой больничной палате, даже когда меня там нет. Я говорю себе, что этот мишка ее защитит. Покупая его в берлинском магазинчике, я вкладываю в него всю мою силу, мою нежность и мою любовь.
Германия, я снова и снова сюда возвращаюсь.
Сотрудничество с Франсуа Бернхеймом и Дидье Барбеливьеном оказалось плодотворным, и появляется еще одна песня. Очень красивая, символическая. Вдохновленные авторы-композиторы пишут для меня песню «Из Германии» («D’Allemagne»), которая находит у меня абсолютный отклик. «Из Германии, о которой у меня воспоминания из дома напротив, где мои воспоминания детства». Глубокая, политическая, историческая «Из Германии» гениальная песня. Гимн примирения между Францией и Германией. Между двумя моими родинами, двумя моими странами. То, что объединяет две стороны, и что воплощаю я, дитя смешанного брака, дитя Форбака, Лотарингии, которая так и не смогла сделать выбор между ними двумя.
На востоке комплексуют из-за колебаний Истории. Неприятная географическая помесь, от которой мы сходим с ума. Мы не из Германии и не из Франции. Мы с границы, из Лотарингии. Мы пытаемся быть счастливыми и в такой ситуации. Теперь у них есть, кому защитить их знамя. Они гордятся мной, как местной футбольной командой.
Следом за «Мадемуазель», песня «Из Германии» попала точно в цель. Я взволнована этой второй победой, которую подтверждает интерес публики. Я чувствую тепло людей, и мне от него хорошо.
* * *
В целом моя жизнь совершила резкий поворот. Моя карьера набирает обороты, а моя мама умирает. Все быстро меняется, все случается быстро. И не только хорошее. Я становлюсь жертвой автомобильной аварии, в которой ломаю нос. Я часто бываю дома из-за мамы, и мы с моими братьями и сестрой пытаемся поддержать ее, побыть все вместе, иногда немного развлечься, чтобы забыть о маминой болезни. И вот мы выходим из бара Эгона…
Я бледная как полотно. Несмотря на рюмочку, выпитую с Эгоном в его баре, я белей белого. Взгляд в зеркало на щитке от солнца не радует. Но с этим я могу справиться. У меня в сумочке румяна, есть там и помада. Я наклоняюсь, чтобы их взять, и в этот момент какой-то тип, пьяный в стельку, проезжает перекресток на красный свет и со всей силы врезается в нас. Я ударяюсь головой о приборную доску. Я не пристегнулась. Нос ломается с треском, который отдается в моей голове. Эгон везет меня в больницу, чтобы Дани, медбрат в отделении «Скорой помощи», мной занялся. Надо позвонить маме и предупредить ее, но оба моих брата считают, что этого делать не нужно. У них нет на это смелости, они не хотят ее волновать. Они боятся сообщить маме, что у ее самой младшей дочки на данный момент больше нет носа. С тех пор, как семья узнала о маминой болезни, от нее скрывают все, что могло бы ее взволновать. Разумеется, я тоже не хочу, чтобы маме сообщали. До болезни она и так уже слишком меня оберегала и тревожилась по малейшему поводу. Впрочем, когда я была ребенком, со мной ничего особенного не случалось, несмотря на занятия спортом, танцы, чечетку, участие в группе девушек-барабанщиц. Я знаю, что еще совсем маленькой я чуть-чуть разбила голову об угол балкона у нас дома на улице Генерала Леклерка. Помню еще, что я сломала ногу. Я была подростком и, чтобы стать выше ростом и казаться старше, я носила каблуки. Мама предупреждала меня, что я упаду и сделаю себе больно из-за этого желания. Так как я ее не слушала, она повела меня в магазин и купила пару спортивных тапочек. В тот же день вечером я упала в них и сломала ногу!
* * *
Мама в Страсбурге, ей проводят химиотерапию, а я в это время в Париже, у меня рекламная кампания. Я сражаюсь, я устаю, я пробираюсь по коридорам шоу-биза и болезни. От блесток к белым стенам. От крепких духов к запахам больницы. Я езжу туда и обратно, я хочу быть с мамой. Если бы я слушала себя, то оставалась бы в ее палате постоянно. Она кричит на меня, трясет. Я не хочу ее оставлять, я хочу быть здесь и держать маму за руку, когда она терпит боль и когда уже больше не может терпеть. Болезнь, химиотерапию. И то, и другое сразу. Когда мама сидит с иглой капельницы в уставшей вене ее руки. Когда она лежит, потому что сидеть уже слишком тяжело. Это долго. Надо ждать, пока вся жидкость из пластикового мешка по капле не войдет в ее кровь. Жидкость ужасная, красная, ядерная. Нужно, чтобы у нее был устрашающий вид, это часть ее задачи. Она должна напугать самые паршивые опухоли. Вообще-то она пугает всех, а не только опухоли. В процессе не выдерживают волосы и брови, цвета прячутся, аппетит исчезает в неизвестном направлении, и тромбоциты делают так, чтобы их никто не видел. Пакость, необходимая для того, чтобы убить другую пакость. Я подозревала, что это не поможет: две пакости всегда сумеют договориться между собой.
Врачи меняют лечение, лекарства, дозы, пробуют, потом анализируют. И результаты так же хорошо видны на их лицах, как табло с расписанием на вокзалах или в аэропортах. «Полет за немедленной смертью» или «Опаздывает». Маме дана небольшая отсрочка. Но какой ценой! Гримасы боли, судорог, мимолетного безумия. Мама страдает, извивается, кусает себя, теряет разум. Она не понимает, что делает. Иногда она приходит в волнение и встает. Она убегает из больницы в ночной рубашке. Мама хочет поехать и убрать у меня в комнате, потому что я сегодня возвращаюсь. Дома она от боли срывает обои со стен перед тем, как падает отчаявшаяся, обессиленная. Голгофа.
Когда позже мне придется навещать других больных, я не смогу этого выносить. Боль не подточит меня, не высушит. В больнице Некера я буду смотреть на этих слишком бледных и слишком взрослых детей в их слишком больших кроватях, и сердце мое будет разбито. Я все-таки закончу это посещение маленьких больных, поцелую их, одарю подарками и улыбками. Я буду подмигивать им, этим нежным лунным лицам. Но внутри у меня все будет разрушено, взорвано моими воспоминаниями. Я снова с ужасом увижу надежду, которая играет на нервах родственников; врачей, отводящих глаза. Я снова почувствую извращенное действие химиотерапии, запах белого дезинфицирующего средства, эти границы, поставленные между мертвыми и живыми.
Спустя несколько лет я снова вернусь в больницу Некера. Но на этот раз, чтобы победить эту ужасную атмосферу, я дам там концерт. За одно мгновение маленькие пациенты, врачи и родители перенесутся в другой мир, мир музыки, к жизни.
На самом деле ни к смерти, ни к болезни привыкнуть невозможно. Пока любимый человек еще здесь, мы отрицаем саму вероятность его ухода, а когда он уже ушел, мы не согласны с настоящим, мы отказываемся принять это отсутствие. Как смириться с тем, что недоступно нашему пониманию, с чем-то настолько бесчеловечным? Часто говорят о «труде траура». Как будто у траура есть конец. Как будто в какой-то момент можно избежать небытия, этой абсолютной, уничтожающей, невыносимой, неразборной идеи. Выхода нет. Поэтому никакого труда траура. Что касается лично меня, мне пришлось учиться жить с этим. Вставать утром, чтобы начать нормальный день, делать вид, что все хорошо, скрывать от окружающих ту боль, которая меня душит. Жить без этого — значит отрицать смерть, проследить за ее путем и сказать себе, что она всегда сопровождает меня. Спасение… Нужно, чтобы оно было для тех, кто остается. Я поняла это, общаясь с больными детьми: из смерти не выходят, ее эффекты нельзя исчерпать через какое-то время или с помощью терапии. Ничто не теряется, все превращается. Жить с этим как с огромной холодной снежинкой на шее, в душе и иногда в ногах. И особенно, особенно не представлять себе, что вы рассчитались с трауром. Подводный камень никуда не исчез. Нельзя думать, что вы закрыли гроб с умершим. Я всегда ношу его, мой траур, потому что он ничего не может сам. Если я не взваливаю его себе на плечи, он тащится за мной, тормозит и мешает идти, колет живых вокруг меня. Сегодня я могу написать, что труд траура существует, но это труд проходящего времени.
* * *
А пока я утешаю маму как могу. Я развлекаю ее моими историями, ласкаю моим успехом. Мой первый альбом «Мадемуазель поет…» вышел, это триумф. Новости о моей карьере хорошие. Я объявляю маме, что буду выступать в первом отделении у Мишеля Жоназа на фестивале «Francofolies» в Ла-Рошели. У этого фестиваля хорошая репутация после его создания в 1985 году. Так как каждый год в июле на него собираются хорошие более или менее знаменитые артисты, фестиваль стал определенной точкой отсчета во Франции, как сцена престижная и популярная. Хозяин фестиваля актер Жан-Луи Фулкье, подвижный ведущий канала «France Inter», с румянцем во всю щеку и уверенный в своем выборе, включил меня в программу. Он всегда меня поддерживал, и я этим очень горжусь. В первый раз я буду исполнять мой репертуар и, более того, выступать перед Мишелем Жоназом. Мне он очень нравится, Мишель Жоназ. Это он исполнил «Джаз-клуб» («La Boote de jazz»), «Супер-цыпочку» («Super Nana»), «Те, кто играет блюз» («Joueurs de blues»). У него невероятный музыкальный талант, изысканный и популярный. Он известен тем, что выступает только с очень хорошими музыкантами, и он производит на меня впечатление. Он добряк, и я нахожу его шикарным. Его темные волосы, проникновенный взгляд, костюмы лорда, все в его облике вызывает уважение. Я действительно польщена тем, что буду выступать у него на «разогреве», но мне не страшно. Теперь я знаю, что в жизни есть нечто намного более плохое, чем все то, что может произойти со мной на сцене.
Напротив меня за режиссерским пультом стоит мужчина, отвечающий за звук. Это Ришар Вальтер, продюсер концертов, тоже из Эльзаса и компаньон Сирила. По его хмурому лицу я понимаю, что он не слишком доволен тем, что находится здесь. Судя по всему, он просто делает одолжение подружке своего делового партнера. Варьете это не его область. Он пришел из джаз-рока. Я чувствую, что он смотрит на меня с недоверием столь же истовым, сколь истовым было обожание моей мамы. Очевидно, он уже заранее составил мнение обо мне. И он, Ришар, не из тех, кто скрывает свои мысли. Он грубый, живой, неуступчивый. Предосторожности, условности и околичности он презирает.
Я не слишком уютно себя чувствую, его присутствие мне немного мешает. Я начинаю «Мой парень» («Mon mec à moi»). Я пою начало припева, когда это происходит. Сознаюсь, я слишком понизила голос. Все стрелки оказались на красном, и аппаратура не сумела последовать за мной. Я понимаю, что этим я очков в глазах Ришара не заработала…
В тот вечер на сцене в Ла-Рошели я переживаю настоящий медовый месяц с публикой. Но это не моя публика, а требовательные зрители Мишеля Жоназа. И они принимают меня с распростертыми объятиями. На сцене я другая, я чувствую себя могущественной, я доверяю и уверена в себе. На сцене я теряю ту сдержанность, которая есть у меня в жизни. Я преображаюсь, замедляюсь, увеличиваюсь в десять раз. Я больше ничего не боюсь. Публика вибрирует, двигается. Я выдержала экзамен. Я смотрю прямо перед собой, на звуковую консоль, туда, где стоит Ришар, который смотрит на меня с круглыми как блюдца глазами, завороженный тем, что он увидел и услышал. Теперь он убежден.
У меня успех на сцене, у моего первого альбома есть аудитория, вдобавок я зарабатываю деньги и получаю от этого удовольствие. Моя ставка в «Румпелькаммер» поднялась в свое время с 50 до 80 марок ФРГ, но я была не настолько богата, чтобы открыть свой счет в банке. Теперь у меня есть средства, чтобы обзавестись чековой книжкой и купить себе машину. Цена за маленькую серую «Хонду CRX» приводит меня в ужас: 118 000 франков! Огромная сумма. Астрономическая. Я сажусь в нее словно в карету с детской улыбкой на губах. Я пристегиваюсь и выезжаю на автостраду А4 по направлению к Страсбургу. Я еду в больницу. В машине я смогу спокойно поплакать тайком. Немного освободиться от моей назойливой боли.
Состояние мамы ухудшилось. Я вижу, что она еще больше похудела, побледнела и пожелтела. С тех пор, как весна снова заявила о себе и на улице хорошая погода, я стараюсь отвести ее в больничный парк, чтобы она немного прошлась, подышала воздухом, свежестью. До лифта мама идет очень медленно, сразу начинает задыхаться, быстро теряет силы. На ее лице та маска, которую я ненавижу: глаза слишком большие и неподвижные, рот открыт, и это выражение крайнего напряжения… Мы добираемся до лифта, в который входим вместе с какой-то дамой. На фоне мамы та выглядит совершенно здоровой. Она накрашена, нарядно одета, надушена. Разумеется, навещала кого-то. Она рассматривает меня и бросает:
— А ведь я вас знаю!
Я застенчиво улыбаюсь в ответ, подтверждая ее догадку, а потом вижу, как засветилось мамино лицо. Белая маска, закрывавшая ее прекрасные черты, исчезла. Я снова вижу ее полной жизни, гордой, счастливой. Я снова обретаю мою маму благодаря этой даме, узнавшей меня. Я пристально смотрю на маму, потрясенная этим благословенным моментом. Я хочу запомнить ее такой, и хотя слезы застилают мне глаза, я не отвожу от нее взгляда. Она как будто освободилась от своего крестного пути, с ее плеч словно сняли огромный груз. Ее Патрисия стала Патрисией Каас.
* * *
«Патрисия Каас!»
В этот вечер проходит конкурс, но он отличается от тех, в которых я участвовала у себя дома. Масштаб другой. Речь идет о премии «Виктуар де ля мюзик», это все равно что премия Сезар для музыкантов. Публика, аплодирующая мне стоя в этот вечер, это профессиональные музыканты, артисты, представители звукозаписывающих компаний, музыкальные редакторы, отбирающие музыку для радио, журналисты, пишущие на темы музыки. Мое имя только что произнесли в категории «Открытие года среди певиц», и оно звучит во мне громким эхом. Я поднимаюсь на просторную сцену зала «Зенит», на которой я только что пела, чтобы получить премию. Я слегка покачиваюсь, напугана необходимостью произнести речь. Этот зал «Зенит» производит впечатление, наполненный только «своими», которые соединились в единое целое словно монолит. И хотя это толпа доброжелательная — она меня только что наградила, она не внушает мне доверия. Я определенно заслужила эту премию, но я слишком остро ощущаю себя самозванкой. Я все спрашиваю себя, не ошиблись ли эти люди, поздравляя меня. Я не осмеливаюсь забрать свои лавры. Моя природная сдержанность снова на пути к вершине.
Кажется, в этот вечер я произношу маленький спич. Но я совершенно не помню, что я сказала. Я слишком взволнована, слишком под впечатлением, чтобы помнить это. Как будто речь была короткой. Должно быть, я сказала «спасибо». Но я ничего не помню. Спасибо маме? Несомненно.
Потому что я знаю, что я добилась этого только благодаря ей. Мама мечтала за меня. Она была моей первой восхищенной слушательницей, моим первым фанатом, она первая поверила в меня сильнее меня самой. Она больше, чем моя мать, она моя счастливая звезда, моя удача. Я бы так хотела, чтобы эта награда стала талисманом, который сохранил бы ее живой еще немного. Нам об этом сказали. Они это видели. С раком лимфатических узлов прожить три года — это уже победа! Только победы никакой нет. И не может быть никакой победы в нечестной игре. Когда известно, кто выиграет, продление неинтересно. Мысль о том, что конец, с которым пытаешься свыкнуться, уже близок, невыносима. Я не могу к этому привыкнуть. Я умоляю: «Еще немного, не сразу, не сейчас». Я бы навлекла на себя проклятие, только бы выиграть немного времени.
* * *
Прекрасный месяц май 1989 года не так прекрасен. Вокруг в природе кипит жизнь, люди счастливы в ожидании солнца, женщины открывают ноги, а мужчины на них смотрят. Все хорошо. Только не для меня. Только не для нее, моей матери, которая умирает. И мой отец впадает в отчаяние, замыкается в своем молчании. Он, такой болтун, больше не разговаривает. Он потерял всю свою веселость, поменял ее на грустное и хмурое выражение лица. Жозеф тоже не принимает этого. Он не готов, никто не готов. К этому никто никогда не готов. Она знает, моя мама. Ее сбившееся с ритма тело кричит об уходе. Она слышит зов. И прощается на перроне.
Сирил здесь, рядом с ее кроватью, он держит ее за руку. Это как любезность, чтобы помочь ей подняться на подножку. Она говорит ему:
— Я больше не могу заниматься моей дочерью. Передаю эстафету тебе. Я доверяю ее тебе.
Он дает ей обещание, берет на себя ответственность, тяжелую и прекрасную.
16 мая, во вторник, мама уходит от нас.
* * *
Ее больше нет, а мне все кажется, что я слышу ее, вижу. Я почти чувствую ее присутствие. Мы ее похоронили, но в гробу была не она. Это невозможно. Она слишком живая, я говорю о ней в настоящем времени. Несколько месяцев проходят в отказе принять и ярости, а потом я погружаюсь в жизнь, в которой нет остановок. Жизнь насыщенную, чтобы убежать от боли, и еще для того, чтобы мама оттуда сверху мной гордилась.
Первое турне, чтобы забыться, чтобы быть там, где ничто не напоминает мне о моей матери, нейтральная чистая территория. Прочь, чтобы поверить, что я в другом времени, подвешена между отрицанием и принятием. Мне нужно отключиться от страдания, нужно, чтобы я жила чем-то другим, а не тем, чем последние месяцы. Я выбираю бегство. Я должна уехать, отправиться навстречу моим спасителям, чья любовь заменит мою боль, к моей публике. Если я допьяна напьюсь сценой, если буду отдавать ей пот и кровь, я буду меньше плакать. Если я приму и отдам любовь на сцене, я меньше буду чувствовать свою утрату.