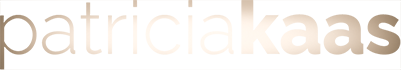Грустный клоун
Я хочу, чтобы мой четвертый альбом был американским. Когда этим утром 1996 года я прилетаю в Нью-Йорк, опускаюсь в туман, который окутывает город, я чувствую себя немного опьяневшей. Я взвешиваю мои шансы, и у меня какое-то нехорошее предчувствие. Я снова вижу огромные автомобили, поразившие меня во время предыдущих турне, слишком высокие здания, неугомонные улицы с громкими гудками машин, бегущих людей с бумажными пакетами в руках. И повсюду хот-доги. А затем лимузин, в котором мы едем по городу, с его экстравагантным баром и тонированными стеклами. Все странное. А я спокойна. Даже счастлива тем, что я здесь, что я на просторе, что я снова уехала. Я ищу перемен, и я приехала за ними сюда, в страну расточителей, новых веяний. Я собираюсь записывать альбом с гениальным продюсером, у меня есть эта привилегия. Он работал с такими титанами, как Пол Саймон и Билли Джоэл, — Фил Реймон. Невероятно. Я, певичка на праздниках пива, получаю в продюсеры самого Фила Реймона.Я в номере нашего нью-йоркского отеля, радуюсь проделанному пути, когда мне звонит мой брат Дани. По его голосу я понимаю: что-то случилось. С папой.
За несколько недель до моего отъезда в Соединенные Штаты папа неудачно упал. Последствия оказались плачевыми, ему пришлось делать операцию, потому что бедро сильно пострадало. Его пришлось госпитализировать, чтобы установить искусственный сустав. Когда я садилась в самолет до Нью-Йорка, он чувствовал себя хорошо. Дани по телефону из Франции объясняет, что папе совсем плохо и я должна вернуться. Его сведения точные, потому что он работает именно в той больнице, куда положили папу.
После маминой смерти папа уже не тот. Улыбающийся и веселый Жозеф угас от печали. По мере возможностей я стараюсь брать его с собой в отпуск, часто он гостит в моей квартире на улице Сабо. Короче, я делаю все, что могу, чтобы его развеселить. Иногда мне это удавалось. Как это было тем летом, проведенным на солнце вместе с подругами. Мы забавлялись, устраивая маскарады. Но больше всего ему нравилось играть в шары в час аперитива.
Я снова сажусь в самолет и лечу в Форбак. Когда я приезжаю в больницу, я понимаю: папа не оправился после операции, его тело отвергает новый протез. Я далека от мысли обвинять кого бы то ни было, но я всегда думала, что ему слишком долго не могли поставить диагноз. Папа рад меня видеть, он даже немного приободрился. У его изголовья собралась вся семья. Мы за ним ухаживаем, мы пытаемся поднять ему настроение. На самом деле, он отвергает не сустав, а саму жизнь. С папы довольно. Он устал, ему больно. Годы работы в шахте подточили его тело, годы без мамы подточили его сердце.
Однажды мы с Сирилом ходили смотреть шахту для фотосессии. Мы вошли в дьявольский подъемник и начали медленно спускаться мимо палитры черного цвета. Сначала светлые оттенки, затем более насыщенные и блестящие. Это сужающееся пространство, которое становится все более темным, внушает тревогу. Мы не спускались глубоко вниз, но я поняла моего отца.
В его грустной палате я рассказываю ему какие-то истории, чтобы развлечь его, я пытаюсь его рассмешить. Он улыбается и потом с нежностью говорит: «Хорошими глазами я тебя все-таки наградил!» Я чувствую, что эта фраза будет последними его словами для меня. И в этот вечер, когда я ухожу от него, я чувствую, что по-настоящему расстаюсь с ним, не на одну ночь, а навсегда, на долгую, очень долгую ночь.
В субботу 7 июня папы не стало.
* * *
Я иду по аллее кладбища и стараюсь сохранить папу в памяти живым. Улыбающийся, веселый, он вытеснил из моих воспоминаний себя больного на больничной кровати. Я вспоминаю. Он, вне себя от радости, четыре года назад в день своего рождения. Я спросила его, что он хочет в подарок на свои шестьдесят пять лет. Я думала отправить его в путешествие. Я представляла, как он поедет с приятелем и откроет для себя далекий уголок земли. Для него, чей горизонт ограничивался сводом шахты и трубами Стиринг-Венделя, я мечтала об отъезде, об экзотических странах, которые могли бы его позабавить. Плохо я его знала, но это меня не удивило. Так как я еще не поняла, что папу его жизнь устраивает и что ему вполне достаточно не видеть ничего другого, кроме своей шахты, своих приятелей, своего квартала, своей семьи. И потом, ему не хватало моей мамы. Ее отсутствие убивало все его желания.
Когда я спросила его о подарке, он ответил, подняв на меня свои голубые прозрачные глаза, сощурившиеся от смеха:
— Знаешь, что доставит мне удовольствие? Чтобы ты пришла выпить рюмочку в бистро на углу.
Я с нежностью смеюсь и спрашиваю:
— ОК, папа, но надеюсь, всех мне целовать не придется?
Он кивает головой. В его желании я читаю гордость за то, что он мой отец.
Я прихожу в бар и понимаю, что предупредили весь Стиринг-Вендель. В бистро черно от народа. Я ищу газами папу в этой толпе завсегдатаев, любопытных местных стариков, которые знали меня еще девочкой. Папа обнимает меня, называет «моя дорогая» и показывает всем со словами:
— Это моя дочь, вы можете ее поцеловать. Патрисия Каас — это класс.
Вокруг нас теснятся люди, сжимают меня. Вопреки нашему уговору я превращаюсь в поцелуйную машину. Два часа спустя, когда я наконец ухожу, я уношу на своих щеках образцы слюны всех жителей города. А папа счастлив. Он наслаждается моментом, с достоинством отмечает свое отцовство несколькими дополнительными стаканчиками.
И в потоке моих воспоминаний его лицо несчастного человека, мужчины без своей жены, шахтера без своей шахты всплывает следом за предыдущей картиной. Он изменился. Он скучал. Он оставался по-прежнему общительным, но дома его привычное хорошее настроение исчезло. Папа часто чувствовал усталость, жаловался, стал ворчливым. Каждый год я летом брала его с собой в отпуск. Я снимала где-нибудь дом, на Ибице или на Корсике, приглашала друзей и вместе с папой садилась в самолет.
Каждый раз я представляла, что он будет доволен в незнакомом месте в хороших условиях вместе со своей дочерью. Каждый раз я была вынуждена констатировать, что нет, он недоволен. Напротив. Ему было все равно, что он на прекрасном острове, где красиво и жарко, где дома ослепительного белого цвета, где густая, загадочная и сухая растительность обрамляет синеву моря. Это его не интересовало. Хуже, он мешал другим наслаждаться отдыхом! Папа, для которого парадоксальным образом лучшими были самые простые вещи, получал извращенное удовольствие от того, что усложнял мне жизнь. Когда мы были в отпуске, хотели отдохнуть,
ничего не делать, наслаждаться сном и приятными моментами, он решил, что необходимо установить определенный распорядок и соблюдать его. Например, расписание еды. Все по часам: в 9 часов первый завтрак, в полдень второй завтрак, в 15 часов аперитив, ровно в 20 часов ужин. Он приходил и барабанил в мою дверь или звал меня с криком:
— В этом доме, что, не ужинают?
Как только стол был накрыт, блюда расставлены, он с улыбкой устраивался на стуле. Он был доволен. Но он почти ничего не ел, так, клевал. Это меня не только раздражало, но и волновало. Я говорила ему:
— Папа, ты надо мной смеешься! Ты умирал от голода десять минут назад! Мы торопились, чтобы не заставлять тебя ждать слишком долго, а ты теперь даже к тарелке не притрагиваешься? Я надеюсь, ты шутишь?
Но папа не шутил, нет. Шутки не его репертуар. Он требовал еду из принципа, чтобы придать дню порядок, потому что это его успокаивало, и особенно для того, чтобы всем показать, что он глава семьи. Папа по-прежнему терпеть не мог надевать зубные протезы, а без них ему было неудобно есть. Я с ним воевала, чтоб он носил челюсти, но он упорствовал. Папа стал упрямым. Именно так он пережил шахту. Он не давал никому спуску. Мог накричать из-за пустяка. Девочкой мне одной удавалось привести его в чувство. Бывало он слишком громко включал телевизор, потому что показывали футбольный матч, а он сходил с ума из-за футбола. Этим он мешал спать Карине, встававшей очень рано, потому что она работала продавщицей. Бывало, что даже соседи друг друга не слышали. Я вставала перед ним, руки в боки. Он убавлял громкость и понижал голос, называя меня «жандармом».
Но в последнее время мне не удавалось с ним справиться. Я повторяла одно и то же, и ничего не помогало. А когда я стала замечать, что его тело начало сдавать, я отпустила вожжи, я перестала его «воспитывать». Это было бесполезно. Папа выбился из сил. В какой-то момент я избавила его от необходимости тратить энергию на борьбу со мной. Он родился в 1927 году, ему было всего шестьдесят девять лет, но выглядел он намного старше. Шахтеры умирают рано. Папа сдался. Бороться, когда всю жизнь только это и делаешь… Шахта настигла его, темнота всегда побеждает. Перед тем, как лечь в больницу, папа жил в доме престарелых. И он не собирался там задерживаться надолго. Это место подавляло. Как и продолжение старости. Особенно, когда ты был бойцом тени, когда доказал свою силу и свою храбрость. А когда тело подводит, из всех этих ценностей остается только ностальгия.
* * *
Теперь я сирота. Круглая. У меня больше нет ни папы, ни мамы. Мне едва исполнилось тридцать лет. Сегодня я оплакиваю моего отца, а я еще не перестала оплакивать мою мать. Боль от смерти папы заполняет меня, но теперь я переношу ее легче, потому что она мне знакома. С трауром я в близких отношениях, мне не удается справиться с трауром по маме, я пытаюсь носить траур по любви, а теперь еще и траур по моему отцу. Его уход я представляю как появление на арене грустного клоуна в конце антракта, как конец перемены, как похороны радости. Папа был смешной, живой, после слез пируэт. Теперь придется обходиться без него. Находить другие средства, разбираться со всем, как взрослой, чтобы вновь вернуть смех.
Остановившись перед его могилой, я думаю о том, что прожила почти десять лет несчастий. Я хотела бы, похоронив папу, заговорить судьбу на десять следующих лет. Я устала от того, что так много плакала. Мамин плюшевый медвежонок по-прежнему меня всюду сопровождает, и его грустные глаза как будто напоминают мне о реках пролитых слез. Я должна избавиться от мучительного прошлого, оставляющего на мне отметины, того самого прошлого, которое делает меня более суровой. Перевернуть страницу, сменить пластинку, цикл, обстановку… А пока вернуться в Нью-Йорк, чтобы записать мой альбом.