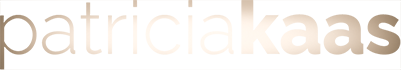Надпись над входом в шахту: «GLÜCK AUF!»¹
За окном на улице царит ватное молчание. Последние огоньки за окнами погасли. На улице Генерала Леклерка горят фонари, окруженные желтым сиянием. Наша улица пустынна, ее белая накидка испачкана следами ног. Люди вернулись к себе, подвыпившие, наевшиеся до отвала и счастливые от того, что следующий день выходной. Жители Стиринг-Венделя и соседних городков заслужили отдых. Все без исключения, потому что труд у них очень тяжелый. С железом или с углем, на заводе или на шахте, они держат на плечах свои города с почерневшим за столетие промышленной деятельности дыханием. И потом, дела идут плохо… Вчера они были завтрашним днем века XIX, а сегодня стали днем вчерашним века XX. Лотарингский бассейн, родина прогресса… После эйфории наступила депрессия. Когда я слышу разговоры взрослых, такие слова, как «кризис», «упадок», «конец», «ничего», повторяются часто. Я смутно догадываюсь, что под улыбками, которые здесь легко появляются на лицах, скрываются заботы. И потом у меня перед глазами папа, доказательство того, что в эти рождественские вечера все не так просто и мило.Обычно папа работает. В два часа утра он «на угле». Мой отец Жозеф Каас — шахтер, «чумазый». Работу он иногда начинает в такой час, когда на улице столько же света, сколько и в шахте. Потому что его нет. Возможно, именно поэтому он и не замечает, где проводит ночь — на земле или под землей. Когда он возвращается на рассвете, в час, когда мы только просыпаемся, на его лице заметны стигматы ночи, словно он терся об нее, обнимал ее, и на его губах остались черные следы. И пусть потом он моется с мылом и щеткой, следы ночного труда никуда не исчезают. Это густой черный цвет шахты, из-за которого его голубые глаза кажутся прозрачными. Папа изнурен, и это заметно по тому, как тяжело он опускается в кресло. Я отлично понимаю, что у него очень тяжелая работа, мужской труд с очень высоким риском, похожий на труд солдата. Каждый день нужно быть готовым умереть, нужно выигрывать каждое сражение, рискуя проиграть войну, нужно выйти победителем из мрачной рукопашной. Нельзя испытывать страх перед спуском в шероховатые вены этой антрацитовой земли, на которой я расту под серым небом.
Каждый день папа уходит сражаться против сочащихся водой потолков, чтобы заработать нам на хлеб насущный, спускаться в темные лабиринты со страхом в желудке, ловить ртом воздух в узких мрачных коридорах. В худшем случае папа рискует своей шкурой, в лучшем — инвалидностью. Бывают несчастные случаи, и в семье всем прекрасно известно, что их жертвами становятся не только другие. И потом у всех есть уши, и сирены, разрывающие барабанные перепонки, и сердца шахтерских жен, слышат все. Их возлюбленная шахта коварна. Никто не чувствует, когда она подкрадывается со своими выбросами метана и обвалами. Она все делает внезапно и не оставляет улик. Шахта поглощает, вскидывается, ломает, бьет вслепую, подло. Если она не убивает за мгновение, то душит медленно, изнутри, своими ядовитыми испарениями, забивая легкие жирной копотью. Время от времени раздается сигнал тревоги. К отцовскому кашлю все привыкли. Он кашляет каждый день. Я слышу его по утрам, он раздается из кухни, как будто из пещеры. Кашель сотрясает моего отца, в горле что-то клокочет, мешая ему дышать. Его кашель внезапно будит меня, резко возвращая из мира снов в реальный мир. Он звучит как призыв к порядку. Я должна встать с постели, умыться, надеть меховые сапоги, выйти на холод и ждать на ледяном ветру школьный автобус.
Папа… Папа никогда не жалуется. Он искренне любит свою работу, которая его убивает. Он требует ее, хвалится ею, как военной наградой, как увядшим цветком былой страсти, от которой трепетал молодой человек, каковым он больше не является. К шахте он испытывает глубокую первобытную привязанность. Братство и солидарность товарищей-шахтеров, мужская атмосфера, физическое усилие, осознание того, что каждый день двигаешь горы, и удовлетворение от этого. Возможно, еще и поэзия сумерек… Это труд на грани исчезновения, и папа, возможно, считает, что должен защищать его до конца. Он говорит об этом, заявляет. Он шахтер, как другие — герои. Никто не заставит его стыдиться своей профессии и самого себя. Он не краснеет за свое скромное положение. Он всегда кормил свою семью. Да, он не может отвезти ее в отпуск, но он родом из того времени, когда люди не ели досыта.
Папа родился в 1927 году, он пережил войну. В Стиринг-Венделе был шталаг (stalag), и немцы заставили миллионы лотарингских рабочих отдавать свои силы, остатки своих сил ради немецкой военной машины. Они называли себя «вопреки-нашей-воле». Здесь всегда одно и то же: судя по всему, у людей никогда не было выбора. Что ж, каждый как-то приспосабливается, примиряется со своей судьбой и ею гордится. Как только папе говорят о какой-нибудь знаменитости, он всегда отвечает: «Ну и что? Я двадцать семь лет проработал на шахте, и я был железнодорожником!» Никаких сожалений, никаких комплексов, таков мой отец.
В нашем квартале все семьи такие, с отцом-шахтером. Рабочий поселок Абстердик принадлежит Угольной компании лотарингского бассейна, и она селит там своих рабочих. Улицы расположены под прямым углом друг к другу, вдоль них шеренгами стоят одинаковые дома «с умеренной квартирной платой». Никакой зависти, все под одной вывеской. Дома белые, квадратные, на каждом фасаде и на каждом этаже по два окна и одна стеклянная дверь.
В доме живут две семьи, одна на первом этаже, другая на втором. От улицы каждое строение отделяет маленький садик. И каждый блок квартала отделяет от другого квадратная детская площадка. Я иногда хожу туда после школы с Региной или Жан-Люком, соседскими детьми моего возраста, покататься на тобоггане. Атмосфера в квартале довольно веселая, потому что все друг друга знают, встречаются на работе и вне ее. Матери помогают друг другу, дети вместе растут в тени заводских труб, а отцы работают рядом в подземных галереях шахты. Так возникают связи.
Но условия тяжелые. Здесь люди равны перед проблемами и бедностью. Небо висит низко, климат суровый, болезни. Продолжительность жизни сокращают шахта и завод. В противовес этому праздники устраивают по любому поводу. И еще пьют. Особенно мужчины, и тоже по любому поводу, и спиваются.
Папа тоже не прочь выпить. Его веселый характер и тяжелый труд подталкивают к тому, чтобы искать опьянения. Он любит праздники, музыку, танцы. Если перед ним танцплощадка, он обязательно выйдет и покажет себя. Он танцует старые танцы, которым можно научиться — вальс, танго. И он научил им мою сестру и меня.
Легкий и элегантный папа — король танцплощадки. На нем хорошо сидят шляпа и костюм, в нем есть шик актеров 50-х годов, класс Кларка Гейбла, «Унесенных ветром». Мой отец, когда не увлекает соседку в веселом танце, беседует то с тем, то с другим, не забывая себе подливать. Он чокается и говорит, поэтому стал популярным. И папа действительно привлекательный, правда. Но вот нос его уже немного покраснел, глаза приобрели грустное выражение, придавая ему сходство с веселым клоуном. Потом его щеки раздувают челюсти без зубов, и он становится похожим на смешной персонаж из комиксов. У него есть прозвище — Сеппи. Предполагается, что он должен надевать вставную челюсть, но он предпочитает носить ее в кармане. А когда ему говорят: «Тебе же будет легче, ты должен ее надеть», он неизменно отвечает: «Да ну ее!»
Кинематограф, чтение, выставки картин, походы по магазинам — это запредельные удовольствия в нашей культуре. К этому не привыкли, и это совершенно недоступно. В доме есть телевизор, и это уже нечто. С мамой мы смотрим все передачи с ведущими Марисией и Жильбером Карпантье и передачи немецких телеканалов. Мы приходим в экстаз при виде платьев Далиды, смеемся над акцентом Хулио Иглесиаса. Папа, тот смотрит футбол, играет в него, я должна была бы сказать. Потому что в вечер матча он сам не свой. Его крики: «Давай же, болван, давай, беги!», от которых дрожат стекла, слышны до Саарбрюккена, что на немецкой стороне. Папа просто по другую сторону экрана, и его сложно вернуть на зрительскую трибуну. Папа из энтузиастов.
По сравнению с ним мама кажется очень сдержанной. Выходы «в свет», излишества, незнакомые люди не для нее. Она предпочитает оставаться в семье, где комфортно себя чувствует. Ее скромность контрастирует с естественной веселостью папы. Мама получает удовольствие от немецких обозрений, в которых рассказывают в мельчайших деталях о жизни звезд и коронованных особ. Благодаря папиной работе у нее есть возможность подписаться — это не слишком дорого — на иллюстрированные журналы по выбору с возможностью отказаться от подписки. Мама читает их медленно, чтобы надолго хватило, во всяком случае, до нового номера. Но у нее мало свободного времени, и читает она их только тогда, когда у нее есть на это возможность. Чаще она держит в руках щетку, губку, стопки белья, а не журналы. В доме всегда найдется работа, даже теперь, когда старшие уже живут отдельно. И потом мама следит за тем, чтобы все было безупречно, все лежало на местах и было чисто. Кажется, она готовится к визиту одного из своих идолов, например Грейс Келли, этого идеального сочетания Голливуда и готов, двух планет, за жизнью которых она пристально следит. Впрочем, меня назвали именно в честь красавицы блондинки из Монако. «Грейс Патрисия Келли» на немецком звучит как «Грация Патриция»…
¹ Приветствие немецких горняков, выражающее надежду на возвращение из шахты наверх, на землю. Переводится как «Счастливо на-гора!»